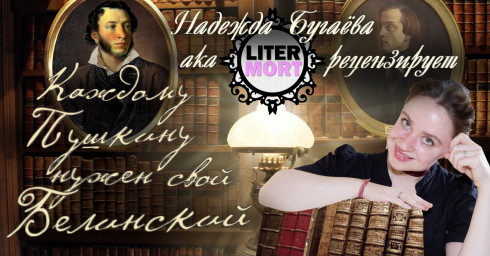Денис Касперов: рыцарь тесных палаток, покусанный чернью (рецензия Надежды Бугаёвой)
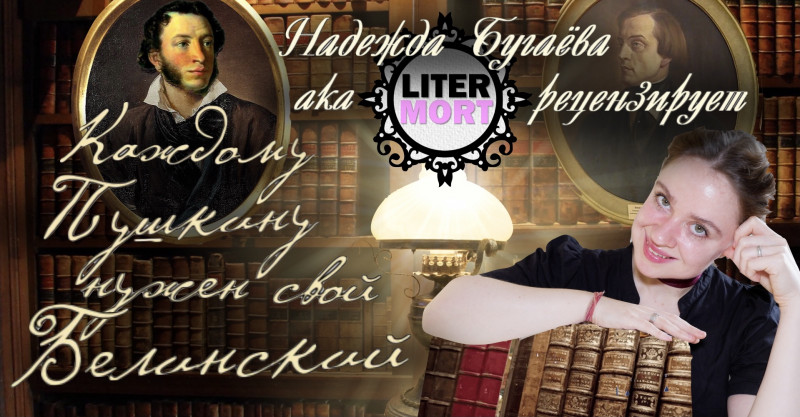
Вызвал интерес 18-ый по счёту «Редакционный портфель» уважаемого Игоря Исаева, посвящённый Денису Касперову — поэту (или непоэту), с лирикой которого я столкнулась впервые. Но это неудивительно: как отметил и сам Денис, литература сегодня преисполнена множеством людей, и как только ты более-менее (как тебе кажется) ознакомился с какой-то их частью, как оказывается, что на тебя надвигаются «тьмы и тьмы» совершенно незнакомых деятелей литературы, вооруженных сборниками, альманахами, блогами, территориями поэтов, грамотами и победами в туче мелких конкурсов… Искусство слова нынче стало страшно сегментарным, и охватить глазом все сегменты может разве лишь спасатель на пляже: он хотя бы сидит высоко.

Во-первых, бросается в глаза образ «непризнанного пророка», бичуемого правдоруба, с которым ассоциирует себя Денис Касперов:
«Набрасывайтесь, говорю же! Кусайте! Жальте!»
Восклицательная пунктуация придаёт его словам пылкий пафос. Но чего? Внутреннего протеста? Разъединения с обществом? Болезненной поляризации себя (честного) с толпой (бесчинствующей)?
Пафос тут так называемый моральный, высокий и благородный. Развёрнутая метафора создаёт образ высокой и благородной личности — лирического «я» автора, — атакуемой даже не толпой неандертальцев, «кидающих бешено каменья», а сворой собак или злыми насекомыми.
Тревога духа
Автор заранее занимает несколько агрессивную, дерзкую, предельно гордую и независимую позицию (ибо лучшая защита — это нападение), но оттого и более уязвимую, тревожную. Это образ Человека среди нелюдей, не гнушающихся насилием.
В приведённой цитате из 5 слов 4 (!) являются глаголами. Динамизм, поступательность, настойчивость, напористость — это всё характеристики художественного пафоса, избранного Денисом Касперовым в его прозаической части «портфеля». Нашим очам предстаёт кусаемый и изжаленный«лермонтовский пророк», в демонической гордости ещё и подначивающий своих мучителей: «говорю же!». Да, они кусают и жалят его, но руководит ими — он. Эдакий патриций, руководящий плебеями-кусаками даже в момент их восстания. Дирижёр тучи расстроенных вторых скрипок.
Однако эта образность у меня лично вызвала ещё одну библейскую ассоциацию. Важно то, что толпа будет «жалить и кусать» автора, а не бить и пинать, например. Повторюсь, что в образной системе Дениса толпа — не люди, а нелюди. Животные, насекомые. Фауна, в общем. А сам автор — «пророк», назовём его так по устоявшейся традиции (Денис Касперов, вероятно, возразил бы: ах, да какой я пророк, я даже не поэт, и проч., и проч. Но это уже жеманство профессиональной красавицы, отмахивающейся от привычных комплиментов, а в образной системе автор — именно «пророк», высокая и талантливая фигура, окруженная кровожадной чернью).
Так вот, звери и гнус — это чисто библейская образность. А Пророк — это своего рода святой. Твари в Библии покоряются святому: звери не кусают, пчёлы не жалят. Но! дерзкого пророка Дениса Касперова (написала и — усмехнулась: «дерзкий пророк» — это звучит довольно сексуально, вы не находите?) твари готовы искусать и изжалить от души. Так это пчёлы неправильные или пророк неправильный? Или мир так непоправимо «сломан», что в лесах дикие звери больше не лижут святым пятки, а сразу откусывают весь окорочок?..
«<…> Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья —
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи.
Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная.
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя <…>»
(Лермонтов М. Ю., «Пророк», фрагмент)

«Монолог ушедшего поэта»
Во-вторых, рассмотрим и рифмованное творчество Дениса Касперова. В «Монологе ушедшего поэта» звучит тема славы и творческого бессмертия: «Обессмертил я имя своё». Поэт вновь обрушивается на толпу — лицемерно набивающуюся в друзья мертвым прославленным поэтам и равнодушную к живым. Идейное содержание выражено в стихе: «Берегите не мёртвых – живых». Здравый призыв. Однако зефирно-плюшевый финал («Наполняйте ваш мир добротою,/ Значит, будете вечны и вы.») в духе кота Леопольда звучит комично, так как вступает в диссонанс с едкой и дерзкой фигурой искусанного и изжаленного непоэта-пророка, с которым мы познакомились в предисловии (автоисправление презабавно исправило мне «изжаленного» на «изжаренного». А робот всё-таки видит в вас Демона, Денис, не иначе! Ну, или цыплёнка табака.).
… С кровяным синяк подбоем,
И зубов передних нет:
«Наполняйте добротою!..» —
Шепелявит им поэт…
Тема одиночества («Всё-таки это скверно –/ Быть одному на Земле») раскрыта через мотив небесного («Грешен и я перед Богом») и земного («Глупый слагаю стих я»). Лирический герой — земной и несовершенный (хотя и принял вычурно-красивую позу с гитарой на фоне туманного окна), а небеса, конечно, не могут всерьёз сердиться на минутное уныние этого обаятельнейшего миляги: «Он мне простит, наверно,/ Грустную песню во мгле.»
«Смердящий мир»
В 2008 году 37-летний Денис был молод и, по-видимому, ещё более концентрированно дерзок: «Но сука-жизнь катилась под уклон». Резкая лексика создает образ франтоватого, взъерошенно-романтичного лирического героя, по-печорински иронично взирающего на жизнь. Суки, кстати, в отличие от кобелей, бывают более ласковы, хотя многое, конечно, зависит от породы. Какая, интересно, попалась Денису?
Подобно Блоку в «Незнакомке», лирический субъект Касперова восприимчив к низменным запахам: «Клоаки дух из местного оврага». Порочным соседям, хамовитым и грубым, противопоставлен сумасшедший Витька: «Блажен, добросердечен, неприкаян». В образе Витьки отразился традиционный для национальной русской культуры (и что уж таить, мировой тоже — вспомнить хотя бы безумную Офелию) образ юродивого — блаженненького. Ему характерна детскость и близость к природе: «По-детски он любуется весной». Этот образ Денис Касперов идеализирует и противопоставляет бездуховному обывательству.
Денис Касперов рисует картину погрязшего в «бытовухе» грязного мира — «смердящего», — населённого пьяницами, матерями-брошенками, безнравственными забулдыгами и прочим сбродом, но в то же время и хорошими людьми. Скажем так, это «честная картина», без перетягивания весов лишь на одну сторону. Денис верен своему лирическому двойнику-правдолюбу.
В этих старых стихах виден сатирик. Комизм достигается за счет просторечно-разговорной лексики в соседстве с высокой книжной:
«Дед Валентин в потёртом галифе
Втолковывает школьнику чего-то.
Отец районных аутодафе,
Внебрачный эпигон Искариота.»
«Внебрачный эпигон Искариота» — это сильно, конечно. И смешно. Я улыбнулась. Люблю такую лексику. «Отец районных аутодафе» — да что у них там в районе творилось-то?.. Товарищеский, видимо, суд?
Впрочем, история этого «внебрачного эпигона» имеет продолжение: «В прошлом он стукач/ И делегат какого-то партсъезда». И в образе автора чем-то забелело, чем-то белогвардейским…
Вновь образ автора чётко индивидуализирован, оторван от толпы через риторическую фигуру речи: «Зачем гляжу на мир? В нём нет мне блага...» Действительно: эти «трепачи» и бывшие делегаты в таких, как наш Поэт, метать привыкли бешено каменья. А также, не забываем, подлейшим образом кусать (!) и жалить.
«— Денис, Денис, ой, а что это у вас к заду прицепилось? Клещ?»
«— Да нет, это один делегат какого-то партсъезда — вечно куснуть норовит, собака, когда я мимо прохожу…»
«Расстрелянное солнце»
Интересен у Дениса Касперова образ «расстрелянного солнца». С одной стороны, солнце в русской литературной традиции — это и есть поэт: «солнце русской поэзии», «светить всегда, светить везде…». Когда толпа восстаёт против солнца, то это равнозначно черни, восстающей против поэта-пророка: «В солнце стреляют, чтобы/ Быть во главе земли.» Вновь земное и небесное. Проблема несправедливости, торжества порока. Во главе земли по совести должен быть Светоч — Просветитель, Пророк, Разум, а не эти дремучие животные с двуколками.
Антитеза маленького/ большого создаёт грустно-иронический лиризм насмешки над несправедливостью устройства жизни: «Мелким крестом прицела/ Пойман гигантский круг.» Гигантское поймано мелким. Крошечные иудейчики распинают Сына Божия. Микроскопические плебейчики ставят крест на солнце. Ну, смех же! Но всё это было бы смешно...
Мотив безумия: «Чем виновато светило,/ Дайте, безумцы, ответ?» Дерзость и агрессия плебеев против титанов — это безумие в чистом виде. Низкое посягает на высокое. Земное забывается и забывает, что подвластно небесам: «Гнев поднебесья – не шутка,/ Сколько нИ празднословь...».
Идейное содержание: «Если стреляешь в солнце,/ Значит – стреляешь в себя.» Общество, расстреливающее своих «солнц», уничтожающее свою интеллигенцию и свои «небеса высшей культуры», совершает самоубийство. Остроумно, Денис!

Лиризм, потому что лирично
Денис Касперов представил пейзажную зарисовку в стихотворении «Оттепель»: «грачиная стая/ Расклевала февраль впопыхах.». В стихах соединение метафоры с метонимией. Вообще тонкому переходу сезона в сезон посвящено много стихов, этот переход всегда шебуршил души поэтам. Не устояла и горделиво-ироничная душа Дениса Касперова. Это стихотворение в подборке — наиболее лиричное, так как громче пафоса и идеи звучит собственно лиризм (тонкость, мягкость эмоционального начала): «Воспарят и грачи в поднебесье/ Поредевшей невзрачной семьёй…».
Дениса вдохновил образ одинокого, голодного, больного грача: «Но останется в этом предместье/ Одинокий, голодный, больной.» Очень похожий образ птицы мы встречаем в финале поэмы Пушкина «Цыганы»: «Пронзенный гибельным свинцом/ Один печально остается,/ Повиснув раненым крылом.» У Пушкина «поздний журавль», раненый и одинокий, символизирует Алеко — «лишнего человека», разрывающегося между цивилизацией и природой, свободой и правом. А у Касперова?
А у Касперова образ умирающего грача лишён дополнительной аллегорической нагрузки. Вряд ли несчастного грача поэт сравнил с собою. Автора поразил своей несправедливостью (!) образ птицы-старожила, обречённой сгинуть под скамьёй на вокзале. Это дань лиризму, и только. И ниточка, связующая лирику Дениса с предыдущими поколениями художников пера и кисти.
«Будет медленно здесь умирать он,
Обречённой земли старожил,
Тот, который сейчас в полумраке
Под скамьей на платформе лежит...»
«Калигуловские» мотивы (или калигулярные?)
Близок ли образ Калигулы из одноимённых стихов образу лирического героя Дениса Касперова? Или это образ противной стороны?
Интересный вопрос. Калигула у Дениса отличается богоборчеством и активной жизненной позицией («Устройство бытия я не приемлю»), выбором нового в противовес традициям («Я вам открою новый горизонт»), хищническим отношением к любви («Держать в руках Венеру,/ Как жертву, наконец»; «Любовь – иллюзия, и ей цена – пятак»), цинизмом («Извлечь из горя хохот»), развращенностью («Увековечить похоть»), гордыней («Вселенной император»), жаждой славы («В историю, Калигула, в историю!») и властолюбием («Есть только власть, и лишь она прекрасна!»). Предпоследний пункт, например, тематически перекликается с пожеланием, высказанным Денисом в любовной миниатюре о даме-пошлячке:
«Пускай через тысячу лет
Вдруг кто-нибудь скажет, что прожит
Не зря был мой век на земле.»
(«Письмо»)
«Запоздалую вашу дружбу
Я уже не смогу оценить.»
(«Дружба» здесь = признание поэта обществом, слава)
(«Монолог ушедшего поэта»)
Вообще идея посмертной славы (истинной или мнимой), попадания в историю — лейтмотив касперовской лирики. Красная нить, проходящая через все стихи. Назовём это условно «калигуловским мотивом» в творчестве Дениса Касперова.

Видный миру смех сквозь незримые миру слёзы
А мотив отчаянного веселья «как в последний раз» — это вообще фольклорный мотив. Фольклору свойственна тема борьбы с унынием через всепобеждающее веселье. У Некрасова, например, в «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», у Гоголя вообще — «видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы». В «Декамероне» у Боккаччо сами знаете что. Это народно до глубины души. И у Касперова: «каждый должен веселиться,/ Как сумасшедший, как в последний раз». Если в фольклоре это символ сильного духа (победы над обстоятельствами), то у Калигулы — разнузданность, ослабление духа, кощунственный «пир во время чумы».
А вот в следующих строках я ощущаю уже некий вкус белогвардейства:
«Приказываю: сыну
Не плакать об отце,
Встречать его кончину
С улыбкой на лице.»
Помню, мне коллега недавно рассказывала, как при обсуждении русской истории у её вполне (на первый беглый взгляд) благонамеренного кавалера вырвалось: «мраз*та белогвардейская». Революция 17-го года разделила русский мир не на черное и белое (и не красное и черное, как у Стендаля), а на красное и белое. Да, как в винном магазине. И третьего, как бы ни настаивали индифферентные (а настаивать у по-настоящему индифферентных слабо получается), не дано. Никакого розового.
Так вот, Калигула у Касперова — эдакий победивший большевик поколения 20-х гг, движением маузера приказующий детишкам белого «врага народа» не плакать об отце и встречать его кончину с улыбкой на лице. А почему бы нет? Ведь «мраз*та белогвардейская» преставилась, тут радоваться надо. А кто мало и недостаточно напоказ радуется — того отправить в лагеря для нравственного исправления. «Обязаны смеяться,\ Взойдя на эшафот»!
«И будет смерть наградой
С сегодняшнего дня.
Чтоб не нашлось такого,
Кто с нею не знаком».
Я выделю ещё один лейтмотив (ведущий мотив), формирующий поэтику и идейную целостность лирики Дениса Касперова. Это тема справедливости и проблема несправедливости, вытекающая из неё, сформулированные в рефрене:
«В историю, Калигула, в историю!
И нету справедливее теории!»
Несправедлива безвестность при жизни талантливого человека, которым пренебрегает общество; несправедливо женское предпочтение богатой синицы и пренебрежение бедным, но романтичным журавлём; несправедливо пролитие бесценной крови на потребу шакалам; несправедлива тирания, и т.д.
Калигула-большевик у Касперова вмешивается в гармонию земного и небесного и посягает на божественный порядок: «Как я перемещаю/ Моря и небеса!»
Резко встаёт проблема цензуры и мотив дерзости свободолюбивого поэта:
«Как дерзостным поэтам
И преданным певцам
Отныне все сюжеты
Я буду править сам!..»
«Калигуловская» цензура опасна не всем, а лишь «преданным певцам»: «прикормыши власти» подбегут и подлизнут её сами, не дожидаясь приказа, и будут нахваливать; потом организуют свои МАССОЛИТы, понаоткрывают ресторанов «Грибоедовых», понастроят себе санаториев и обеспечат своих детишек до конца жизни. А вот «мастерам» придётся туже…
Калигула у Дениса Касперова распускает слухи о несуществующих врагах, чтобы испугать и сплотить народ: «Крадутся, словно мыши,/ Враги со всех сторон.» И с помощью уже знакомого нам мотива безумия автор даёт понять, что Калигулам поверят лишь «безумцы»: «Безумные, поверьте». Стихи завершает мысль о «бессмертии» подобных Калигул и «призрачности» той жизни, которой духовные рабы живут на земле, управляемой злодеями: «Калигула бессмертен/ На призрачной Земле!»
Любовная лирика
В миниатюре «Письмо» раскрывается конфликт мужского и женского. Мужское несправедливо недопонято женским: «Но вряд ли меня ты поймёшь». Дама выбирает, а мужчина — один из выбираемых рыцарей. Одни рыцари — синицы в руках, другие — журавли в небе. Наш лирический герой — однозначный журавль.
У одних рыцарей-пошляков — пошлые яхты и пошлое злато, в то время как у других — лишь жажда свобода («тесные палатки») и неуёмный романтизм («Романтики вышли из моды»). Конфликт земного и небесного, материального с духовным. Дама-пошлячка выбирает «хлеб единый» и рыла отнять не может от земли, и потому романтический дуб таланта нашего героя ей не видно («прожит/ Не зря был мой век на земле.»). Выражаем надежду, что бездуховная дама хотя бы не успела подрыть у древа корни (в поисках клада, вероятно). Так что потеря этой любви — явно не потеря, а приобретение.
Проблеме истинной и мнимой любви посвящены и стихи о «Вашем величестве». Мы помним, как Маяковский коронует свою Лиличку и бросает ей под ноги свою нежность, как рыцарь бросает плащ под ноги красавице, лишь бы её пречистая ножка не коснулась грязной земли. Так вот, у Дениса Касперова всё иначе.
«Ваше величество» — горький сарказм. Пафос вновь моральный, высокий и благородный. Пафос обиды, униженности в любви. Вновь противоборство мужского с женским, старый как мир юнговский мотив. Красотка оказалась двуличной и меркантильной: «Но за Ваш поединок с двуличностью,/ С бесполезностью злой красоты». Она вела поединок со своим трехглавым драконом — лицемерием, злобой и бездуховностью — и проиграла дракону. Лирического героя эта злодейка не оценила по справедливости: такой душе ты знала цену? Ты знала! — я тебя не знал!
Проблема истинной и мнимой красоты: красота бывает злой, ребята и зверята, не забывайте.
Неужели образ женщины в лирике Дениса Касперова представлен лишь двуличными злодейками-яхтолюбками? Образу «неправильных пчёл» Денис противопоставляет образ пчелы «правильной»: «Облик ласковый, искренний, милый/ У любимой подруги моей.» Проблема истинных и мнимых жизненных ценностей. Мнимые, как мы уже поняли, — это материализм, многостяжание (деньголюбие то есть), двуличие, гордыня на пустом месте, внешняя красота и злобность, оправдываемая внешней красотой. А истинные — это ласка, искренность, нежность.
Денис вводит эпитеты с помощью силлепса (несочетаемых однородных членов): «В беззаветной кошмарной любви». «Беззаветная» и «кошмарная» — ну, забавно же! Это комично. Ужасно большая любовь, страшно искренняя. Куда бежать-то от радости?
Примечательно, что мотив обретения истинной любви Денис связал с «Мело, мело по всей земле, во все пределы» Пастернака через образ метели: «Вдохновенной январской метели». Намеренно или ненамеренно, история умалчивает. Но ясно, что обретение счастья одухотворяет всё вокруг, и вот уже метель становится «вдохновенной».
Денис говорит о любви через мотив земного и небесного: небесной (истинной) любви нет места на несчастливой земле, и потому лирический герой обречен обретённое потерять:
«Но по правилам жизни земной
Ночь прошла, и метель улетела,
И любовь унесла за собой.»
Наконец, «венцом» любовный лирики Дениса Касперова стало посвящение жене Ларисе — своему чистейшей прелести чистейшему образцу: «Моя звезда, моя луна,/ Мой дом, моя весна.» Недаром в эпиграфе упомянут Визбор: ритмика напевная, песенная, а не скачуще-динамичная.
Четверной повтор «моя» формирует напевность. Четыре образа выстраиваются в ряд: звезда — луна — дом — весна. Первые два (звезда, луна) — небесные, вторые два (дом, весна) — земные. В образе жены Ларисы поэт соединяет наконец небесное с земным во имя обретения гармонии. Хорошая женщина — вот точка конфлюенции земли и небес.
Образ солнца Денис увязывает с темой счастливой любви: «Когда увижу солнца свет/ Я первый в жизни раз?..»
Звезда — звёздные мотивы, вечный образ, тема «пленительного счастья», ориентир, путеводитель, судьба. Луна — вечная невеста. Как писал Маяковский, «моя жена, моя любовница рыжеволосая». Дом — это эпицентр истинных жизненных ценностей. Весна — это начало, расцвет. С Ларисой наш герой начинает свой путь и — расцветает. Оазис цветения посреди «мировой клоаки».
Благодарю Игоря Исаева за портфель и Дениса Касперова за лирику и лиризм. Спасибо, уважаемые коллеги! И до новых встреч.