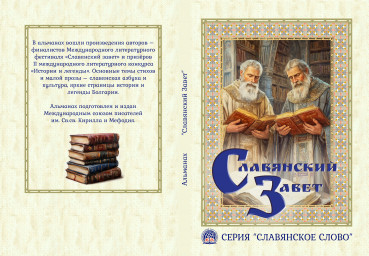Ибо прах ты
Ибо прах ты
Рассказ
Мне не спалось. Я уверял себя, что это из-за старого дивана: мама постелила в гостиной, как в детстве, а я отвык. Cтолько лет прошло.
В темноте мерно тикали ходики. Тик-так, тик-так, тик-так. Не люблю громко тикающих часов. Еще больше, чем капающую воду из крана. Блямс-блямс-блямс, — бьются капли о дно раковины. Но это не страшно. Другое дело часы, отсчитывающие секунды.
Наш полковой капеллан посоветовал взять отпуск и проститься со всеми. Проститься. Хорошее слово. Простить значит и прощения попросить. Давно пора.
По пути к маме я останавливался на пару дней в Амстердаме. Навестил О.В., свою «экс». Она теперь замужем за голландцем. Хороший мужик. Молчаливый. И дочку мою любит. Переговаривается с ней по-голландски. Забавно так. Словно откашливается все время. А со мной дочка говорила по-английски. Они его учат в школе, и ей надо практиковаться.
Моя «экс» меня простила. Может, потому, что счастлива или хочет такой казаться. По-любому, я благодарен ей за то, что простила.
А вот Рина – нет.
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло...»
(Первая Книга Моисеева, Бытие, 3:22).
***
– Я боюсь, – прошептала Рина. – Я очень боюсь.
– Чего ты боишься? – в который раз спросил я. – Это все делают. И потом, нам уже по восемнадцать.
– Я боюсь, – еще раз повторила она.
Я пошарил рукой по полу и нашел брюки. Достал мятую пачку «Родопи». Чиркнул спичкой. На мгновение из темноты выплыли спинки кроватей и сваленные трупами матрасы. Последняя ночь. Наш колхоз закончился, и завтра – в город. На лекции, семинары, коллоквиумы.
Неяркое пламя выхватило сбитые простыни, Ринину спину и бедра. Она лежала, свернувшись калачиком, точно замерзла. Плечи ее тихонько вздрагивали.
Зло покусывая пальцы, догорала спичка. Я прикурил и задул пламя. Сразу стало темно. Только в щелку под дверью, щурясь, подглядывал неоновый свет из коридора.
В комнате за стеной смеялась девушка. Ей сонно отвечал парень. Потом скрипнула соседняя дверь, и на секунду свет в щели зажмурился. Я услышал шаги, приглушенный басок пятикурсника Пехотина и шепот О.В. Половицы болезненно постанывали под их ногами.
– Зачем Пехотин приперся? – спросил я.
– У них с О.В. бизнес, – всхлипнула Рина.
– А ты?
– Я с ними тоже.
Я затянулся. Потом еще разок и еще.
– Сигарету хочешь?
Рина шмыгнула носом и взяла сигарету. Я осторожно положил руку ей на плечо. Прохладное и гладкое. Закрыл глаза и прижался в темноте к ее спине. Зарылся лицом в волосы, пахнущие сухой осенней травой. Все во мне задрожало. Мелко-мелко.
– Не надо, – всхлипнула Рина, чуть подаваясь вперед. – Я боюсь.
Я перевернулся на спину. Взял у нее сигарету и слушал, как она всхлипывала. «Все, – подумал я. – Кончено. Утром Пехотина, О.В. и Рину заберет «Волга». У них дела». И от этой мысли мне захотелось заплакать, как в детстве, когда ушибешь о подводный камень коленку.
Рина повернулась ко мне.
– Прости меня, – прошептала она. – Но я не могу. Правда.
Лицо ее, распухшее от слез, пахло прокисшим молоком.
«И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги...»
(Первая Книга Моисеева, Бытие, 3:7).
***
Я услышал, как на ощупь в темноте прошаркала на кухню мама.
Свет не зажигала, чтобы случаем не разбудить меня, но тяжело вздыхала и тихонько бормотала, разговаривая сама с собой. Мама, милая моя, старая мама!
Я слышал, как она открыла склянку с таблетками, набрала воды, и громко их запила. Потом пошла назад. Остановилась у двери в гостиную. Зашла в комнату. Я закрыл глаза. Мама поправила одеяло и погладила теплой рукой мой армейский ежик. Еще раз вздохнула и, тяжело ступая, ушла к себе в спальню.
Прости меня, мама!
***
В дверь стучали негромко, но настойчиво, как стучат, когда приняли решение и осталось его только выполнить.
К черту! Я перевернулся на другой бок, не открывая глаз. Веки тяжелые, горячие. Голова гудит. Во рту – точно кот насрал.
Всю ночь с Пехотиным пили. Нет, меня он не подозревал. Сам об этом сказал. Но кто? Кто увел весь товар? Французский парфюм, финские тряпки, турецкое золотишко. Прямо из общаги. Кто?
– Свои ведь! Свои! – рычал Пехотин, разрывая на груди майку.
Вскакивал, метался по комнате, расшвыривая ногами стулья. А потом падал на скрипучую кровать и заливался слезами, уткнувшись в подушку:
– Свои… Свои…
Успокоившись, он справлялся о соседях по комнате, выпытывал о чужаках, спрашивал о Рине.
Что я мог сказать ему? После колхоза мы встречались только на лекциях.
– Рина не могла взять, – пьяно стучал я в грудь. – Не могла.
– Убью, – хрипел Пехотин. – О.В. убью! Сука! Больше некому.
Стук в дверь повторился. Я сунул голову под подушку. Мне не хотелось вставать. Не хотелось никого видеть. И слышать тоже. Мне хотелось уснуть и не просыпаться целый день. И чтобы в дверь никто не стучал, особенно теперь, спозаранку.
Но стук не прекращался.
– Шоб вы сдохли! – застонал я и, скрипнув пружинами, сел.
Пол холодный. На фанерном столе порожняя бутылка из-под водки, банка с недоеденной килькой, засохшая горбушка хлеба. Я пивнул из носика закопченного чайник. У-у-фф.
В дверь снова постучали.
– Иду! – просипел я, не узнавая своего голоса. Откашлялся и повернул ключ в замке.
На пороге стояла Рина. В светлом плаще и кудряшках, которые слегка ослабли от утренней свежести. От нее пахло духами. Ее духами. Это казалось сном.
– Привет, – сглотнул я. – Ты откуда?
– Молчи, – сказала она. – Долги отдаю. Пустишь?
Я посторонился, и она вошла внутрь.
– Извини, – пошатываясь, я принялся смахивать объедки со стола. – Тут срач такой.
– Ничего не говори.
Рина закрыла дверь на ключ, бросила плащ на спинку стула. Потом также молча стянула голубой джемпер, юбку, колготы.
Обалдевший, я таращился на нее. Она подошла ко мне. Встала на цыпочки и поцеловала в губы. Потом взяла за руку и потянула в еще не остывшую постель.
«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.» (Первая Книга Моисеева, Бытие 2:25).
***
Рине звонил вчера. Первый раз за десять, нет, уже двенадцать лет. Сказал, что приехал. На неделю.
– Оттуда? – спросила она. – Зачем?
Я знал, что у нее восемь лет назад утонула дочь, а потом ушел муж.
Я знал, что мать совсем ослепла, и Рина забрала ее к себе.
Я знал, что после скандального изгнания она в университет так и не вернулась. Пошла работать оператором на завод. Сутки через трое. Удобно ухаживать за мамой. Я все знал.
– Проститься, – вздохнув, ответил я.
– Проститься? – Рина хрипловато хихикнула. – В который раз?
– В последний.
– А сам-то меня простил?
– Давно, – ответил я. – Хочу, чтобы ты тоже.
– Зачем?
– Не знаю.
Я немного помолчал и добавил:
– Нужно.
– Что тебе еще от меня нужно, а? – насмешливо спросила Рина. – Ты не все получил, что хотел?
Я стиснул трубку, чтобы не швырнуть ее прочь. Закрыл глаза и, набрав полную грудь воздуха, стал выталкивать его короткими, точно очереди из М-16, порциями.
Тяжко вспоминать.
Я перевернулся на другой бок. Как громко тикают ходики!
***
Электричка уходила с шестой платформы. Времени как всегда оставалось в обрез. Рина то и дело вскидывала руку и глядела на часы.
– Сколько? – спрашивал я.
– Десять минут, – отвечала она. – Не успеем.
– Успеем, – сказал я и подхватил ее сумку. Сумка оказалась тяжелющей. – Кирпичи?
– Маме подарок, – едва поспевала за мной Рина. – Ко дню рождения.
Мы воткнулись в толпу пассажиров, и нас вместе с ними втянуло в черную пасть подземного перехода.
Быстрее, быстрее, быстрее – тыкались мы в плотные спины.
Задыхаясь, я перебрасывал из руки в руку пузатую сумку. Вдруг кто-то схватил меня за шиворот и рывком потянул в сторону. Я дернулся, пытаясь освободиться, да куда там!
Передо мной стоял Пехотин. Одной рукой он крепко держал меня, другой стискивал Ринино запястье.
– Ты че, старик? – ошалело выпалил я. – Паровоз под парами.
– Она, – кивнул он на Рину. – Отдай сумку.
Я слышал ее прерывистое дыхание и еще крепче стиснул ручки сумки.
Шумливая толпа с баулами, чемоданами, рюкзаками налетала, толкалась, бурлила вокруг нас.
– Уйдем с дороги, – сказал Пехотин.
– Мы опаздываем.
Иногда я могу говорить стальным голосом. Как в кино. И это действует, но только не на Пехотина.
– Не здесь, – сказал он и потянул из рук сумку.
Я упрямо не отпускал. Тогда Пехотин подал голову назад и, точно срезая мяч в ворота, ткнул лбом мне в нос.
Я никогда не верил, что искры могут сыпаться из глаз. Оказывается, могут. И темно может стать. Будто свет выключили.
– Не надо! – успел я услышать крик Рины. – Он ни при чем!
Пальцы мои разжались. Я сполз по стене, сглатывая кровь. Она, теплая, солоноватая, бежала по подбородку и стекала за ворот. Было очень больно. Я попытался открыть глаза, но не смог. Их точно горячими ладонями зажали. Я размазывал кровь по лицу, сплевывал и медленно валился на бок, а люди, спотыкаясь о мои ноги, ругались и бежали дальше.
«… ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей».
(Первая Книга Моисеева, Бытие 3:14).
***
– Я тебя не простила, – сказала Рина. – И не прощу. Никогда.
– Я знаю.
– С тебя все началось, – не слушала меня она. – Я боялась. Никогда не прощу. Запомни.
– Я запомнил.
Светало. Уже не уснуть. Я поднялся, даже не скрипнув старыми пружинами дивана, и бесшумно, как учили в лагере, вышел на балкон.
Еще не проснувшийся сырой ветерок трогал прихваченные желтым листья на тополях, шуршал, словно выброшенными газетами, сухим бурьяном, приносил с невидимого берега вонь гниющих водорослей, слегка разбавленную утренней свежестью.
Я щелкнул зажигалкой и закурил «Кэмел» без фильтра.
***
В тот год весна выдалась поздняя. Вишни зацвели во второй раз, но погода их опять обманула. С моря задул промозглый юго-западный ветер, и розоватые лепестки усыпали аллею перед главным входом в больницу.
На крыльце парадного я столкнулся с матерью Рины. Высокой, грузной, в толстых минусовых очках, из-за которых глаза ее казались мышиными бусинками.
– У них теперь обед, – сказала она, не поздоровавшись. – Гулять пойдут через час. Не раньше.
– Подожду, – ответил я, тоже не здороваясь.
Когда мы с Риной начали встречаться, еще в десятом, ее мать ходила в море бухгалтером на плавучем консервном заводе. Консервы делали прямо в океане. Пара месяцев болтанки, и на три дня в загранпорт, чтобы сдать продукцию. Потом снова в океан. И так полгода. После рейса восемнадцать суток дома и снова в море.
Рина думала, что матери повезло: заработает, жить станут лучше. Не жировали они. Но матери не повезло. После двух рейсов ее списали. Их многих списывали после первых рейсов. Ее списали по здоровью: давление. То ли высокое, то ли низкое, не помню.
Вернувшись на берег, она устроилась на прежнее место, в бухгалтерию, заваленную отчетами, накладными, балансами, да засиженную близорукими бухгалтершами в толстых шерстяных кофтах. Аванса хватало тютелька в тютельку до получки, которой тоже хватало как раз до аванса.
– Я все обнародую, – сказала она мне. – Пусть знают.
– Обнародуйте, – пожал плечами я, потому что знал, что ничего не обнародует, не враг же она собственной дочери.
Она не ответила. Просто повернулась и пошла к автобусной остановке. Не прощаясь. Усталая, с толстыми икрами, обтянутыми чулками в резинку.
Я долго смотрел ей вслед. У меня было время. Потом открыл тугую больничную дверь.
Людей пугают адом. Рисуют раскаленные сковородки с брызжущим маслом и казаны с кипящей водой. Это неправильно. Ад – всего-навсего крашеная дверь психушки и тишина коридоров, изредка прерываемая шарканьем больничных тапочек и поскрипыванием каталки.
«… со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей».
(Первая Книга Моисеева, Бытие 3: 17).
***
Я всматривался в утро, стараясь запомнить каждую мелочь. Обшарпанные хрущевки с гроздьями кондиционеров под окнами и ушами спутниковых антенн на балконах. Мальву в палисадниках под окнами первого этажа. Соседскую черную кошку, осторожно переходящую дорогу.
Я хотел, чтобы это осталось со мной как можно дольше.
Я знал, что через неделю попрощаюсь с мамой и улечу туда, где не растет мальва, не воняет гнилыми водорослями и нет знакомых с детства хрущeвoк. Улечу к морским пехотинцам в Кэмп-Пэндлтон, штат Калифорния. А еще через пять месяцев –- на Ближний Восток. Контракт и уведомление о выплате боевых мы все получили еще перед отпуском.
***
– Ты не понимаешь, – сказала Рина. – Они все психи. Пси-хи.
Мы сидели на скамейке в обнесенном металлической сеткой загончике, тридцать метров на тридцать. Со скамейками, небольшими цветочными клумбами, на которых желтели, синели и краснели анютины глазки. Тепла не было, и цветы, казалось, ежились под холодным ветерком.
Больные в одинаково застиранных халатах, поскрипывали гравием, прогуливаясь вдоль клумб.
– Ночью она мне в лицо водой прыскала, – сказала Рина, показывая глазами в сторону кудлатой девушки с грубым, точно наспех выстроганным, лицом. – Пословицу забыла. Латинскую.
– Амигус Плято сед магис амигас эст веритас, – сосредоточенно бормотала девушка.
Иногда она останавливалась, мученически морщила лоб, кусала губы, но через мгновение снова принималась хрустеть гравием:
– Омниа меа мекум порто[1]. Teрциум нон датур[2]...
– И так целый день, – прошептала Рина. – Двести пословиц. К прошлогоднему экзамену по латыни.
– Через неделю тебя выпишут, – сказал я.
– Скорее бы.
Месяц назад мать нашла Рину без сознания и с кучей пустых упаковок элениума вокруг. Вызвала «скорую». Усталый врач с волосатыми, пахнущими дезинфектом руками скривился. После стольких таблеток элениума и целой ночи его помощь была бы не нужна.
– Вставай, – бесцеремонно сказал он Рине. – Смотри, как мать напугала.
В отделение Рине на всякий случай промыли желудок. Потом обследовали и обнаружили двенадцатинедельную беременность. Для врачей все стало ясно.
По медпоказаниям ей сделали аборт и, как самоубийцу-симулянтку, отправили в психушку. С воспитательной целью, как сказал главврач.
– Вот, – я сунул Рине пакет и украдкой посмотрел на часы. – Фрукты.
Рина даже не заглянула внутрь.
– Меня отпустили из университета, – сказала она.
Я промолчал.
– Вчера домой уведомление пришло.
Я снова промолчал.
– По состоянию здоровья.
Что я мог сказать? Что ей повезло? Что она здорово придумала с отравлением? Что могли выпереть вообще с «волчьим билетом»? Что пусть благодарит Бога, что целой осталась? У Пехотина бы не заржавело. Сам знаю. К носу до сих пор прикоснуться больно. Что я мог сказать ей в этом сетчатом загончике с чахлым дрючком испуганно зацветшей вишни, съежившимися анютиными глазками и людьми в больничных халатах? Что?
– Мне пора.
Рина не ответила. Даже не посмотрела на меня. Просто разглядывала розовые цветочки на вишне и молчала.
– Пока, – сказал я. – На следующей неделе приду.
– Не надо, – ответила Рина.
Я пожал плечами и пошел к выходу. Тоскливо здесь. Еще раз посмотрел на часы. И говорить совершенно не о чем. Да еще эта, с латинскими пословицами. Самому спрыгнуть можно.
Через час у меня было свидание с О.В. в новой кафешке «Сластена». Жизнь не закончилась, а только перешла на другую орбиту. Так думалось тогда.
***
Вставные челюсти, клацнув, упали на дно стакана. Причмокивая пустым ртом, она набрала из крана воды. Потом разорвала упаковку дезинфицирующих таблеток, которые сынуля привез из Америки. Вода заголубела, зашипела, забрызгала.
В гостиной разговаривал телевизор. Никак не могли закончиться новости перед вечерним сериалом:
«Американская артиллерия нанесла новый удар по позициям иракской армии на юге страны», –- говорил диктор, ссылаясь на агентство Ассошиэейтед Пресс. –- Передовые части Третьей пехотной дивизии армии США под командованием генерала Бефорда Блаунта пересекли границу Ирака. Кроме сухопутных войск, в наземной операции участвует морская пехота. Сообщают о первых столкновениях, в которых морские пехотинцы уничтожили два иракских бронетранспортера и около полусотни солдат противника. С американской стороны двое убитых и четверо раненых».
Она облизнула бледные губы и достала из халата очки со сломанной дужкой. Покряхтывая, взяла со стола «Библию» и открыла ее наугад.
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, –- прочитала она, –- доколе не возвратишься на землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься».
(Первая Книга Моисеева, Бытие 3:19).
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.