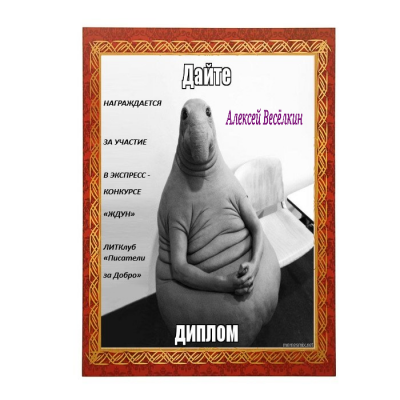Уральский океан
Ракушки, что в камне, здесь были вольны
Со дна, выживая, стремиться всё выше,
Из ила и мрака на гребень волны,
Чтоб звёзды увидеть и дождик услышать.
И видят они, погружённые в сон,
В веков миллионах, в волнах-монолитах,
Как дивно, причудливо вздыбился он,
Урал-океан их застывший, отлитый
В породы фантазий, их форма одна
И и та же… На что ещё это похоже,
Как не на мечтания первых у дна
Ракушек, смотрящих теперь на прохожих?
Река в Суздале
В реке две картины по кругу — И нынешняя, и былая,
Наслаиваясь друг на друга,
В прозрачных закатах пылают.
А рыба, богиня немая
Клюёт изнутри обе вместе,
То звёздочку с неба снимая,
То купол целуя, то крестик.
И ловит меня, человека,
Пожёвывая и зевая.
Закаты стоят в полных веках,
Чуть держатся, не проливаясь.
У озера Плещеева
И ныне яблоня у озера Плещеева
В районе «Ботика»* растёт средь камыша,
Так необыденна, она и для лещей его,
И для гостей его, Плещея, хороша.
Она — Ковчег, она — Эдем. Собралась в плаванье,
В пучины, к Трубежу* — отправится вот-вот,
Да не решается, скрывая что-то главное,
В себя вбирая тихий плеск волненья вод.
Я ощутил это волнение озёрное
В своей груди, когда от яблони вкусил
Её плодов, с укоренившимися зёрнами
Глубин Плещеевых, его былинных сил.
*«Ботик Петра Первого» — первый официальный музей в России.
*Трубеж — река, впадающая в Плещеево озеро.
Русский лес
Мой лес глазам не верит, голый,
Глядится в озера стекло:
Как всё спустил он до иголок
Добро, куда всё утекло?
Ещё недавно бесшабашный
И самый щедрый из кутил,
Он сыпал золото на пашни,
Рулетки осени крутил.
И ставил на поля рулеток
Рукой широкою лесной
Всё, что скопил в трудах за лето,
Что вымучил ещё весной.
Монист рябиновых кораллы,
Янтарь берёзовых серёг —
Всё разбазарил, проиграл он,
Не удержал, не уберёг.
И, затаив рыданья в хрусте,
Вздыхает, горестно ему:
Ведь скажут: «Лес, смотрите, грустный»,
И скажут: «Лес, смотрите, русский»,
Не понимая почему.
Колодец
В деревнях я всегда не решаюсь нарушить
Это сонное оцепененье цепей
Журавлей, наших предков колодцев-игрушек.
Вот, казалось, склонись им с высот — и испей
Отражённого неба, поникшего в полночь.
Но там сны, чьи-то грёзы — поднимешь со дна
Дух воды, голос предков, и вдруг переполнит:
Хочешь только глоток – а там вся глубина.
Карельская слобода
Слободка: огни только вижу
Проездом, всегда в отдаленье — Неведомая, она ближе,
Милей мне всех местных селений.
Там старый красивый порядок
И быт, как из прошлого эхо,
И речка, и храм… Я был рядом,
Смотрел из полей — не доехал.
То с грязью не сладил, то с пылью,
Пытался, но — не принимает.
И пусть. Не раскрывшись мне былью,
Она будто сказка немая.
Слепая река её лижет
Лениво — в моём представленье.
Нездешняя, мне она ближе
Знакомых ближайших селений.
Алепино
В Алепино за садом, за прудом,
За церковью, за звёздным обелиском — Дом Солоухина, обычный дом,
Стоит и всем — навек родной и близкий.
Ведь дальше открывается за ним –
Такой простор, где дом незаменим,
Как в море теплоход. На судне этом
Не мог поэт родиться не поэтом.
Пан и нимфа
На тракторе среди лесных дорог
Я встретил Пана, дующего в рог.
И нимфу с ним лесную: так мила
Она была, что косы расплела…
А он глядел сквозь нас, как неживой,
В дремучий вольный мир, волшебный, свой,
Где пели ему нивы, его даль
И всё ещё давил ногой педаль…
Ему кричали в ухо: «Дуй опять!»
А мне сказали: «В нём промиллей — пять!»
И стало жаль мне всех — настолько жаль,
Что я не стал свидетелем — бежал.
И в нелюбви
И в нелюбви он ей казался даром
Небес. Пока она не утомила
Его, он лгал ей вдохновенно мило,
А после — и бездарно лгал, и даром.
Я цель искал
Я цель искал во всём, в природе, в мире,
В своей судьбе – она была то шире,
Чем ожидал я, то чуть-чуть не та –
Меня как цель искала пустота.
Чайки
Чайки вольные, дерзкие, словно цыгане,
На полях развели свой базар, хулиганят.
Но привычны для нас, как домашние, стали.
Побираются. Может, от воли устали?
Берегам океанским незваные гости
Предпочли наш ручей… и присели на мостик:
Непонятны. Застыли, глядят в одну сторону — Стая целая белых ворон. Или воронов.
Раковина
В раковину ушную мою, — Так показалось мне, я обнаружил, — Не только нашёптывают и поют,
Её наполняя, но также снаружи
Слушают,
Слышат её, как морскую
Раковину, когда затоскуют.
Когда прибивает её прибой
Чистого вечера к берегу неба,
Я вдруг начинаю звучать сам собой.
Что-то всплывает оттуда, где не был
Я со своими ушами ни разу.
Это не шум уже, целые фразы, — Мне показалось, — моею ушною
Раковиной, кто-то слушает — мною.
Коровы
Бывает, за работой слышу: «М-м-у-у!» — Привычный телефонный вибро-звук –
И – тишина. Как звон. И тут – пойму,
Что это — за окном – меня зовут
Коровы. Нас, хозяев и телят
Мычащим этим возмущённым «Ну-у!»,
Одёргивают, как учителя,
Зовут в поля, в лесную тишину.
Хвостами машут… Жертвуя собой
Для нас, с Землёю связаны тесней,
Чем мы, себя готовят на убой,
Чтоб жить не на Земле, а вместе с ней.
Дом в лесу
Я встретил новый дом в лесу меж елей
Как свет: ещё венцы не потемнели.
И радостно: безлюдье, но — рождён
Он здесь, как гриб, под солнцем и дождём,
Ценой усилий всей этой округи.
И тут же вижу, жаль, он без подруги.
Да и как дом он лишь наполовину:
Тропинки нет, а значит — пуповины
От городов и сёл к порогу дома
Как связи — и ведущей, и ведомой.
Отец на лыжах
В полях забывания, фальши и лжи,
Преодолевая их, лыжник бежит,
На стареньких лыжах сияющим днём.
Рюкзак за спиной, и я знаю, что в нём —
Труды его, книги, коллекции мух,
Пакетик кефира, на ужин ему.
А следом за ним прямо в поле растут:
Научный, основанный им, институт*,
Построенный дом, дачи, сад, огороды,
Семья, аспиранты… А дальше природа
Меняется, ветер вздымает пургу,
И вот я уже различить не могу
Черты, мне знакомого с детства лица.
И так — всякий раз, вспоминая отца.
*ВНИИВЭА (энтомологии и арахнологии) в Тюмени в 60-е годы.
Свет окна (описание моей картины)
Снег и небо – свинец и чёрнила – цвета полотна,
Между ними оконная рама повисла одна
На руках — дома нет – он снаружи, она изнутри
Её держат, к стеклу приникая. Свет жёлтый горит
За окном, и он также их держит, два милых лица
Для меня — это дед мой и бабушка – свет, без конца
Связывающий две их души меж собой и со мной.
Он с винтовкой в окопе, она на работе ночной
Вместе, будто привиделось всё это, только во сне –
Сорок первый, декабрь, свинцовое небо и снег.
По маме дед мой
Хитёр Василий был, по маме дед мой,
А в чём, не ясно – говорили так
В родне, в семье крестьянской многодетной –
На хитрости дедуля был мастак.
Известно, воевал совсем не много –
Хитёр был(!) – вот последние слова
Его бойцам (уже был ранен в ногу):
«Удержим Тулу – устоит Москва».
Хитёт (!) И, чтобы зря не голосили,
Врага бил до последних своих сил –
Погиб в боях под Тулой дед Василий,
Мой хитрый, чтоб я кровь его носил.
Александровский парк
Сам склоняешься перед огнём, называемым вечным,
И на миг каменеешь, чем – даришь живые цветы –
Монумент – монументу. Замолви, солдат, словечко
У себя там за нас — все мы сгустки одной пустоты.
И меж нами контакт — в глубине, за дневною завесой — И вот этот обряд наш – негласный общественный сговор.
Мы решаем с тобой уравнение двух неизвестных
При одном понимании — нет одного без другого:
Неизвестному нам непосредственно ныне солдату
От потомков, сограждан, ему неизвестных когда-то –
Наш поклон, даже – от (неслучайно) случайных прохожих.
Александровский парк наш портал, потому так ухожен…
***
И у меня есть звезда путеводная в небе моя,
Удаляющаяся, единственная. Она светит
Моему одиночеству, вера, опора, маяк
И отчаяние моё — ближе всего мне на свете
Этот свет, самый дальний и слабый меж зримых огней.
Слишком быстро летит она, знаю, и пусть одиноче
Мне от этого — трогаю вечность и следую ей
Этим знанием и не один я уже среди ночи.
У кошек
У кошек есть скрытые силы
И, если они захотят…
Я помню, как Яся носила
К нам в форточку спальни котят,
Весь дом обегая из зала,
И дальше по ровной стене
Высокой кирпичной влезала.
Как призрак из мира теней,
В зубах свою правду сжимая
Слепую, слепого ума,
Висела с котёнком немая
И так уязвима сама.
Но слышен был писк… И открыли
Мы форточку ей и… сердца.
У кошек есть скрытые крылья
И воля — идти до конца.
Теперь она, старая очень, — Я ей как котёнок давно, — Мурлычет: « С тобою, сыночек,
Со мною — в любое окно
Прорвёмся!» И сослепу слабо
Кусает меня. Иногда,
Я думаю, и унесла бы
Вот так, если б знала, куда.
И захочется к морю
Когда в свете рекламы спускаюсь в пустое метро,
Иногда мне вдруг кажется: как это просто – нырнуть,
Скрыться с внешней поверхности жизни в живое нутро
Этой жизни, в саму её тайну, в её глубину.
И захочется к морю – зимою — по полю тоски
Просто взять да поехать, всё бросив, под пение вьюг
На пустынные пляжи, к кабинкам, зарытым в пески
Не текучего времени, к стылому солнцу на юг,
Что без брызг и без шума — в далёкий остывший раёк.
Чтобы жизнь была чашей не большей, а той, что полней,
Чтобы пить её, не напиваясь, от самых краёв
До глубокого дна и не знать слишком много о ней.
Южанки
Я узнал, для чего это нужно –
Их бельё на домах, как в музее,
Поперёк этих улочек южных –
Целый день на него все глазеют.
И хозяюшки тянут с уловом
Каждый вечер, как невод из лета
С чьим-то смехом и вздохом, и словом –
То простынку, то часть туалета.
А потом облачаются в ветер,
В эти взгляды с тоскою и жаждой –
Не бывает смелей их на свете:
Они знают все тайны о каждом.
Два моря
Сыну Кириллу
Я слушал два моря. У дома – прибой
Реальный, как сон под луной голубой.
Волной белопенной по гальке журча,
Ворочался, трогая слепо причал.
И в доме — мой сын, не раздевшись, уснул –
Весь день это море ловил на блесну:
Дыханье его, как журчанье волны,
Карманы сырые и галькой полны.
В Феодосии
На жаре очень старый в костюме татарин с весами,
Прибывающих в рай этот, взвешивает небесами.
Хлеб по тридцать рублей, – он берёт за услугу лишь пять, — Точно ведает, ангел их, новеньких, взвесит опять.
И отдаст ещё сдачу им, каждому, с этих монет
Равновесною мерой удачи, чего у них нет.
А они, обновлённые, в город пойдут поутру,
Сувениров, да снеди по больше себе наберут.
Встретят деда с весами, начнут ему что-то дарить,
Уговаривать станут поднять хоть немного тариф.
Он опять скажет: «Нет, ничего я не стану менять,
Я хочу одного, чтобы все жили лучше меня».
Дождь в Абхазии
В «Прогулках по Абхазии -Апсны*
Написано: там дождь проходит ночью,
А дни ясны. И, правда, будто сны
Кошмарные, дожди там – это точно.
Представь, ты спишь, когда из тишины
Внезапно за стеной рванут копыта –
Абреки! – миг – и вот они, слышны
Орудия, и взрывом дом испытан,
Шатается. А бой уже течёт
Во всю, переполняясь, будто в радость.
Мелькают тени, мысли: что, ещё
Страшнее может быть?! И пули градом
Секут листву, но миг – и все замрут,
Сражённые: абреки, кони, взрывы…
И вспомнишь из брошюры по утру:
Апсны — страна души, её порывов.
Апсны* — «Страна души», самоназвание Абхазии.
Ангурийская ночь
Днём мы их взяли – увидели на пустыре – наугад,
Так, кулаком только тюкнули в темя – и вся недолга!
Сразу в багажник, приехали – теплятся! Нож и свеча.
Мальчики? – крутим их, шлёпаем – девочки? – надо кончать…
Ночь ангурийская красная, сладкая страшно внутри,
Хрящика корочка лопает, вспорота с хрустом — утрись!
Косточки, звёзды рассыпаны бисером порванных бус,
«О»(!) — как в разрезе — anguria*, ягода, он же – арбуз.
*Anguria – по-итальянски арбуз.
Город ночью
Всё в себе: и сам город с огнями, и тьма
Окружающая — сном объяты великим.
И слепые, причудливы ночью дома,
Отчуждённы, бесстрастны их бледные лики,
Но идут под покровами этого сна,
Как толпа, выходящая в город с концерта — Все в себе, в тишине до утра — и стена,
И забор, и деревья, и баня, и церковь.
Кусок стекла веранды рамы
Всё выбили, и лишь в одной ячейке
Кусок стекла – забыли, как солдата
В пыли на поле — взгляд фантомный чей-то,
Свидетель жизни, что текла когда-то
В веранды раму. В нём её усталость,
Препятствие для виденья сквозного
В куске стекла — добить? – ему досталось
Уже — на столько старый, что как новость
Веранды рамы. Тронут перламутром,
Он, как фрагмент, оставшийся, экрана
Веранды рамы, в нём застыло утро,
Скопились лица… Свой, простой и странный,
Сверкает — говорит: «В меня смотрите,
Я – в мир окно, вокруг же – голограмма»…
Бывает, слышишь, будто на санскрите,
Слова такие, как «веранды рама».
***
Снег новый у служебного крыльца
Две туфельки, два валенка топтали –
Творили след как красоту деталей.
И, выкурены вместе до конца,
Тонюсенькая сигаретка с «Примой» — Тут рядом. Лучше прочих для меня
Обычная драматургия дня
Обычного – она неповторима.
Бандана — бахилы
Бандана! Заморское слово «бандана»
В приёмном покое я только услышал
Одно это слово — не к месту, нежданно –
И сразу тамтамы откликнулись свыше.
И чайки взметнулись меж дюнами где-то,
Дыхнуло волною, кострами… и тесно
Им стало скрываться условным ответом
Во мне, как в бандане — под словом неместным.
Бандана на память узлом затянулась
Но стало опять всё и дробным, и хилым,
Безвольно всё рухнуло и утонуло,
Когда я услышал: «Наденьте бахилы!»
Бахилы, Заморское слово «бахилы»…
В нашем сказочном городе
В нашем сказочном городе всё рестораны
Да отели — шикарны, как кино-мечты — Оттеняют реальность. И было бы странно
Встретить сказку без замков зеркальных, пустых.
А поэтому льнёт красота показная
К древней храмовой, выверенной на века,
Как к сестре, мол, одну без другой не узнают,
Ведь одна без другой, как без рыбы река.
И поэтому кажется только игрою
Отражений поверхностный этот уют,
Средь которого «нищие», киногерои
Тех же сказок, нехитрую снедь продают.
Они в этой реальности жёстко незрячей
За товаром — надеются — еле видны.
Но, случается, руки дрожат — и не спрячешь
Эту правду — и горе, и чувство вины.
А пью её
Кран, счётчики, фильтры, заглушки — Сплошные углы, развороты –
Бежит вода в трубах дюймовых,
Не видит, не слышит себя,
Забыла. Как чайник вскипает,
Свистит – я обычно забывчив,
А пью её и — вспоминаю,
Представьте, всё больше себя.
Буксиры
Как древние римляне в зрительном зале,
Лежат на боку у реки, где вмерзали
В прибрежные льды, а морозы их рвали,
Как пробные письма. И вот — «На привале» —
«Охотник». Как с той же картины Перова.
Застыл меж других. Величаво суровы,
Судачат: чай баржи к высоким широтам
Таскали в потоке бурливом широком.
Не верят «Дельфины», «Касатки», суда,
Что выброшены они были сюда
Не северным штормом, а сами собою,
Ослепшею, сбившейся с курса судьбою.
Буксиры, по-прежнему неутомимы, — Я помню ещё их, носящихся мимо, — «Охотники», «Римляне», «Дикие», «Звери»,
И пусть даже письма. Я только не верю
В коррозию их, и в усталость металла,
Не верю я, что на реке их не стало.
Вот, кажется, встанут они и по пляжу
Пойдут. И ничто на пути их не ляжет.
В музее. Нож и смартфон
Одним своим ножом мой предок древний
И стол скоблил, и дудочку строгал.
И брился им, и скот валил в деревне,
И пуповины резал, и врага.
Всю тушу-время вспарывал, как зверя,
Разделывал, рубил и свежевал –
С ним выживал, как в друга в него верил
Да в рун своих резные кружева.
В дощечках растекаясь, на берёстах
Посланиями с кончика ножа,
К нам предок шёл сюда, на перекрёсток
Времён. И вот лежит, устал бежать
Сей нож тропою войн, щелей, лазеек
Истории… Мы можем расплести
Весь путь его, как узел, здесь, в музее
Одним смартфоном — стоит поднести
Его к штрих-коду и войти сигналом,
Незримым по вибрациям ножа
В тот век, где и себя ещё не знал он.
Довольно… только кнопочку нажать
Смартфона, он – заменою ножу,
Возможностями только приумножен…
Но я не стану доставать из ножен
Его здесь при ноже, не обнажу.
Комод
Комод давно забытых дней:
Я выдвигаю ящик
И вещи – тусклый свет огней — Мой транспорт отходящий,
Он всё не может отойти
В минувшее, отчалить.
Предметы выбора пути,
Мечты, любви, печали.
Они, как утром фонари,
Что с ночи не погасли,
Продляют свет былой зари
Остаточный, напрасный.
Гирлянды, ёлочный наряд,
Излишни, несуразны –
Их сняли, а они горят,
И длится жизни праздник.
Занавес
«Дело в занавесе, – говорил режиссёр, — понимаешь? –
Видно, как он встаёт и кинжал из груди вынимает,
Хлопнул стопку, хрустнул огурцом и её – она та ещё… — Хвать за ягодицы – вот вам жизнь, себя перерастающая!
Зал в восторге – он в роли Творца… И идут на поклоны,
Поднимается занавес — да, проседают колонны,
Потолок, но не нужно таланта, не нужно лица ему –
Занавес…
зрителю дай
в одну сторону
проницаемый».
Высотка
Приснилась знакомая, в общем, высотка:
Колонны, лепнина, сияние, блики —
Дом весь из мечты и величия соткан.
А ниже, в тени — дом нелепый, безликий,
Я в детстве сказал бы: «Не взглянешь без смеха».
А позже сказал бы, возможно, зевая:
«Убожество, серость да просто помеха».
И вот говорю: «Но и в нём проживают.
Дом сложен из тягот, любви и стараний.
В нём столько укрыто! И он… подрастает».
С тех пор она давит меня и таранит
Во снах — та высотка в сиянье, пустая.
Сайдинг
На севере, на Вологодчине
Картина печально неброская:
Чернеют дома, заколочены,
Старинные — новыми досками.
Залеплены крестиком-пластырем
Их взгляды глубокие дедовы — Подавлены теми, что властвуют
Здесь, в пластик бессмертный одетые,
Кощея домами-бандитами.
Но в этом обмене ударами
Мне хочется видеть забитыми
Все сайдинги досками старыми
«Химия»
Средь книжек затёртых пылятся тома,
Страною нам сверху навязанные
Идейно и брошенные, как дома
Посёлков под мёртвыми вязами.
Там запахи странны, а люди больны.
И, не называя плохими их,
Мы все же обходим их, язвы страны
С такою убийственной «химией».
Экология
Точней, что и где это было, не скажешь уже –
С людьми так бывает – как будто багаж в гараже
Грузили. Бывает со странами – каждый несёт
Своё что-то – втиснуть. Кричат им: «Достаточно, всё,
Мотор перегрелся и фары — так странно – горят –
Не светят почти!» Но ещё набивается ряд
Ненужного хлама – находятся щели – а вдруг
Всё влезло? Прикрыли ворота – и темень вокруг,
Свет гаснет – нет места ему уже там в гараже
Со всем этим грузом. Но, что это точно уже
Не скажешь – на свете возможно… – он не загорит.
Открыли гараж, разгрузились — Ожил габарит…
Леса и парки
Парк это лес, возвратившийся к людям
Псом приручённым. И мы его любим, — Это так свойственно нам, — угнетая,
Пилим, стрижём… А иначе он в стаю
Снова метнётся на дикую вольность
Парков, бежавших от нас, недовольных
Парков, проросших в луга и поляны,
Прочь от кошмаров стальных и стеклянных.
Белый туман
Не с реки, не из низких густых облаков
Белый сонный туман, — он ползёт по низинам, — Это – с ветром сбежавшее вспять молоко,
Закипев, из кастрюль или из магазинов.
Молоко, что к земной припадая груди,
Возвращается сбившейся с русла рекою
В луг-источник, который его бередит,
Духом вольной травы, тишины и покоя.
В нём полно ещё шума, картин городских,
В нём деревья – столбы, а витрины — заливы.
Но ведёт его голос молочный тоски,
Он вернётся к корням и растает, счастливый.
На переезде
Красный. Звонок. И шлагбаумы в пояс –
Стой! И мальчишка, вагоны считает:
Синий, цистерны, с болванками – поезд,
Как кинолента — платформа пустая,
С щебнем, с брезентом, где всё, что угодно,
С танком, с охранником, знак «осторожно»,
Синий, зелёный, как месяцы, годы,
На переезде железнодорожном.
С лесом, со спиртом — вся жизнь показалась
Движущейся поперечно дорогой — Синий, зелёный, цепочка вокзалов,
Станций, платформы, последняя… Трогай!
Цикорий
Люблю этот синий цикорий,
Пролившийся с неба в поля,
Как правда, смотрящая в корень
Со стебля. Им всходит земля
На нёбо, как в небо — земного
Глотка аромат неземной — Обратно — горчащий немного…
Со мной.
Татарник
Татарник — и в памяти — «Хаджи-Мурат»
Да скрытые жилы, как войны.
И корни глубин у заросших оград,
На склонах — колючий и вольный.
Татарник. Он там, где разбита судьба,
Растёт из поруганной чести,
Из боли… Их форма понятно груба
И всюду — как дома, на месте.
Больницы
Бывает, увижу больницу, и хочется снова
Туда, за бойницы, от этого мира больного,
Привыкшего к болям, зудящего, глухо-слепого
В палату, где мы прозреваем. И нужен ли повод
Побыть одному или с кем-то случайным в покое
Пустых коридоров, изведать, что это такое –
Недужный наш мир изнутри, через боли почуяв,
Помыслить, потрогать? Больницы нам души врачуют.
Кадры катастроф
Обычны кадры катастроф,
Когда немой удар железом,
И вот — быками на коров
Вагоны друг на друга лезут
И лезут, валятся в траву,
Восстав на волю человечью.
Ещё чуть-чуть — и оживут,
Не умертвив, не изувечив
В себе кого-нибудь внутри.
«Картина страшная какая! —
Ты скажешь. — Снова, посмотри!»
Да, страшно то, что привыкаем.
Из кадра машет нам рука — Чужая боль, чужая рана,
А мы вовне, мы, как строка,
Бегущая с телеэкрана.
Два серпа
Мы жили в два серпа — жары и холода,
Которые смотрели из небес.
Один был серп земли, который с молотом,
Другой — луны, меж звёздами и без.
Серпы всегда страшны: не терпят лишнего,
Всё резали и режут без конца.
Но лунный серп — от имени Всевышнего,
А наш — в руках жестокого жреца.
Во имя света общего народного
Трудился жрец, во власти тёмных сил.
И резал, словно тело инородное,
Народ — народу в жертву приносил.
Хотел быть богом жрец, кроил, выкашивал
Любил простор — костями засевал.
Пока его свет лунного, не нашего
Серпа к себе однажды не призвал.
И вот — одни лишь всходы запустения
В стране, в душе, и некому их сжать.
И как идея, призрак бродит, тень его,
Усатого, с большим серпом ножа.

 Второе место в экспресс-конкурсе памяти В.Высоцкого
Второе место в экспресс-конкурсе памяти В.Высоцкого Первое место в конкурсе "Весна идёт, весне дорогу!"
Первое место в конкурсе "Весна идёт, весне дорогу!"


 Второе место в конкурсе "А сердце чистейшей породы", номинация "Поэзия"
Второе место в конкурсе "А сердце чистейшей породы", номинация "Поэзия"