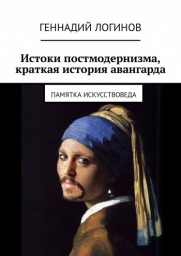Постмодернизм и все-все-все
ПОСТМОДЕРНИЗМ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Говоря о трактовке такого термина, как «постмодернизм», учёные-исследователи подразумевают различные определения данного понятия, среди которых выделяются две основные диаметрально различные концепции:
1.Историческая интерпретация термина «постмодернизм» («исторический постмодернизм»), в соответствии с которой данное явление рассматривается в узком смысле, как положение современной массовой культуры (в равной степени затронувшее литературу, живопись, кинематограф, музыку, архитектуру, политику, философию и т. д.), берущее свою основу в культурных тенденциях второй половины ХХ века;
2.Трансисторическая интерпретация («трансисторический постмодернизм»), при которой суть явления рассматривается уже вне рамок исторического контекста. И, действительно, существует целый ряд произведений различных авторов (включая работы ведущих мастеров Средних Веков и Эпохи Возрождения), которые, даже формально не соответствуя хронологическому критерию, де факто могут рассматриваться в качестве модернистов и постмодернистов своих эпох в соответствии с их творческими приёмами и беспрецедентным новаторством техники.
В большинстве случаев речь, как правило, идёт о первом («историческом») значении термина, но в настоящее время многие ведущие специалисты — включая недавно умершего классика современности, постмодерниста, литературоведа, семиотика и медиевиста Умберто Эко — стали убеждёнными приверженцами второго, «трансисторического» подхода.
В соответствии с трансисторической трактовкой Умберто Эко, «постмодернизм» представляет собой механизм смены одной культурной эпохи другой, которая всякий раз неизбежно приходит на смену «авангардизму» («модернизму»).
Наиболее характерными признаками постмодернизма в литературе, выведенными американским литературоведом Ихабом Хассаном в 80-е годы ХХ века, являются:
1. Интертекстуальность (цитатность, пародирование и самопародирование, межтекстовая связь);
2. Экспериментальность (пастиш, метапроза, фабуляция, использование устоявшихся форм в нетрадиционном ключе);
3. Чёрный юмор, ирония и самоирония.
4. Переосмысление элементов культурного прошлого (деканонизация, плюрализм, моральный релятивизм);
5. Многоуровневая структура текста (гипертекст, множественность смысловых пластов);
6. Игровое начало (симулякры, принцип сотворчества читателя);
7. Принцип ризомы (фрагментарность, неопределённость, недосказанность, ведение нелинейного повествования);
8. Жанровый и стилевой синкретизм (эклектичность, гибридизация литературных форм и направлений, нерасчленённость различных видов культурного творчества);
9. Карнавализация (принципы «авторской маски», «смерти автора», «двойного кодирования», работа на публику, провокационность).
1917 г. — немецкий писатель, философ-эссеист Рудольф Панвиц впервые употребляет термин «постмодернизм» в своей работе «Кризис европейской культуры».
1934 г. — литературовед Де Онис употребляет термин «постмодернизм» в своей книге «Антология испанской и латиноамериканской поэзии» для обозначения реакции на модернизм.
1947 — британский историк, философ и культуролог Арнольд Тойнби рассматривает термин «постмодернизм» в культурологическом значении, интерпретируя его в своей книге «Постижение истории» как «явление, символизирующее закат западного господства в религии и культуре».
1971 — американский литературовед и писатель Ихаб Хассан впервые употребил термин «постмодернизм» применительно к литературе, рассматривая постмодернизм в качестве самостоятельного литературного направления.
Представляя собой так называемое «искусство кризисной эпохи», постмодернизм не только противопоставляется модернизму, но также выступает его преемником.
Возникший как антитеза модернизму, открытому для понимания преимущественно узкого круга лиц, постмодернизм, облекая всё в игровую форму, нивелирует расстояние между массовым и элитарным потребителем, низводя элиту в массы.
Данная мысль наглядно изложена Умберто Эко: «Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности».
Но любое течение позиционируют в сопоставлении с предшествующим. А что же, в таком случае, есть модернизм?
«Модернизм», в его наиболее традиционном историческом значении, представляет собой совокупность художественных направлений в искусстве конца ХIХ — середины ХХ века.
К наиболее значимым модернистским течениям относятся: «фумизм»; «фовизм»; «кубизм»; «футуризм»; «абстракционизм»; «модерн» (не путать с «модернизмом»); «супрематизм»; «экспрессионизм»; «минимализм»; «дадаизм»; «импрессионизм»; «конструктивизм», «сюрреализм» и другие.
Многие течения авангарда обладают своими частными подвидами (например, «постимпрессионизм» и «неоимпрессионизм» проистекают из «импрессионизма»), а результатом «перекрёстного опыления» базовых и производных течений различных школ стало появление всевозможных гибридных форм, таких как, скажем, «кубофутуризм», «абстрактный сюрреализм» или «абстрактный экспрессионизм»
.
Необходимо разделять такие понятия, как «модерн» (представляющий собой всего лишь одно из направлений «модернизма») и «модернизм» (авангард конца ХIХ — середины ХХ столетия).
В узком смысле под «модернизмом», как правило, понимается ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. В данном контексте датой зарождения модернизма иногда называют 1863 год, ознаменовавшийся открытием так называемого «Салона Отверженных», располагавшегося в Париже. В этом необычном месте принимались работы художников, которые не вписывались в рамки общепринятых норм.
В широком же смысле, трактующем данное культурное явление вне временного контекста, «модернизм» может рассматриваться в качестве совокупности альтернативных направлений искусства вообще, противопоставляемых официальному искусству в любой данный момент времени. Т. е., по сути, «модернизм», при данной интерпретации, является контркультурой, отличающейся от любой другой субкультуры прежде всего тем, что она не просто сосуществует с официальной культурой, но и бросает ей вызов, предлагая качественно новые средства выразительности (зачастую — с эпатажем) вкупе с отходом от устоявшихся канонов. Иными словами: то, что было авангардным вчера, может обрести статус официальной доминирующей культуры сегодня.
В литературных же кругах отцом модернизма иногда называют революционного поэта, писателя и журналиста Хосе Марти (1853—1895), хотя авторы, стоявшие у истоков жанров экспериментальной литературы, встречались задолго до него (взять, скажем, роман Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», написанный в 1759 году, — другое дело, что тогда ещё не существовало сформировавшихся канонов, которые можно было бы «ниспровергать»).
Более того, отдельные произведения, несущие в себе те или иные характерные признаки модернистских и постмодернистских течений, встречались и в более ранние периоды: например, в творчестве Иеронима Босха (1450—1516), Альбрехта Дюрера (1471—1528) или Яна ван Эйка (1385—1441), Джефри Чосера (1343—1400) или Мигеля Сервантеса (1547—1616) и многих других, даже более ранних авторов.
Можно сказать, что это явление вполне соответствует трансисторической модели подхода, сформулированной Умберто Эко. В исторической же интерпретации подобные творцы воспринимаются как предтечи последовавшего модернизма или постмодернизма, соответственно.
Огромное значение для возникновения модернизма сыграли следующие факторы: Первая Мировая Война 1914—1918 годов (хотя зарождение явления началось ещё задолго до этого), широкое распространение в Европе политических настроений леворадикального толка (анархических и, в особенности, коммунистических), идеологических, научных и философских концепций Фридриха Ницше (1844—1900), Зигмунда Фрейда (1856—1939), Карла Маркса (1818—1883), Владимира Ленина (1870—1924), Анри Бергсона (1859—1941), Чарльза Дарвина (1809—1882) и других.
Если реализм был противопоставлен романтизму, впервые начав говорить без торжественного пафоса и подгона под классические рамки о темах, ранее казавшихся недостойными освещения (жизнь обычного человека в детализированном описании и т.д), то литературные течения авангарда уже противопоставляли себя реализму, полагая, что за скрупулёзным отображением формы тот, при этом, скрывает глубинную суть вещей, которую модернисты способны вынести на поверхность.
Темы глубокого психологизма, анализа человеческих чувств и эмоций были чужды реалистам, которые, в то же самое время, переносили на бумагу не реальность, а «квазиреальность», т.е. лишь собственное представление об этой реальности, субъективно пережитое ими лично. Впрочем, что и говорить, если даже научная мысль была подвержена влиянию культурно-идеологических установок.
Фактически постмодернизм и модернизм возникли и развивались параллельными путями, противостоя как устоявшимся традиционным канонам, так и друг другу, но их противостояние устоям осуществлялось с использованием различных средств и задач (не считая общей претензии на роль новой доминирующей культуры).
Непосредственным прародителем современного постмодернизма является такое модернистское направление, как дадаизм, которое, в свою очередь, само возникло не без участия фумизма.
Продержавшись сравнительно недолгое время, дадаизм прекратил существовать в качестве самостоятельного направления, слившись (лишь отчасти) с экспрессионизмом в Германии (несмотря на то, что некогда дадаизм противопоставлял свои тенденции и ему) и (преимущественным образом) с сюрреализмом во Франции.
В то же самое время, коль скоро каждое новое течение в культуре позиционирует себя в противопоставлении более раннему, экспрессионизм как таковой возник в противопоставление импрессионизму, в то время как промежуточную нишу между ними занимал постимпрессионизм.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ МОДЕРНИСТСКОЙ И ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
По Ихабу Хассану:
Модернизм \Постмодернизм
1. Закрытая замкнутая форма; 1. Открытая разомкнутая антиформа;
2. Цель; 2. Игра;
3. Замысел; 3. Случай;
4. Иерархия; 4. Анархия;
5. Мастерство/логос; 5. Исчерпывание/молчание;
6. Предмет искусства/законченное произведение; 6. Процесс/перфоманс/хеппенинг;
7. Дистанция; 7. Участие;
8. Творчество/тотальность/синтез; 8. Деконструкция/антисинтез;
9. Присутствие; 9. Отсутствие;
10. Центрирование; 10. Рассеивание;
11. Жанр/границы; 11. Текст/интертекст;
12. Семантика; 12. Риторика;
13. Парадигма; 13. Синтагма;
14. Метафора; 14. Метонимия;
15. Селекция; 15. Комбинация;
16. Корни/глубина; 16. Ризома/поверхность;
17. Интерпретация/толкование; 17. Антиинтерпретация/лжетолкование;
18. Означаемое; 18. Означающее;
19. Чтение; 19. Письмо;
20. Повествование/большая история; 20. Антиповествование/малая история;
21. Основной код; 21. Идиолект;
22. Симптом; 22. Желание;
23. Тип; 23. Мутант;
24. Фаллоцентризм; 24. Полиморфность/андрогинизм;
25. Паранойя; 25. Шизофрения;
26. Истоки/причины; 26. Различие/следствие;
27. Метафизика; 27. Ирония;
28. Определённость; 28. Неопределённость;
29. Трансцендентное; 29. Имманентное.
По Брайнену-Пассеку:
Модернизм\Постмодернизм
1. Скандальность; 1. Конформизм;
2. Антимещанский пафос; 2. Отсутствие пафоса;
3. Эмоциональное отрицание предшествующего; 3. Деловое использование;
4. Первичность как позиция; 4. Вторичность как позиция;
5. Оценочность в самоназвании: «Мы — новое»; 5. Безоценочность: «Мы — всё»;
6. Декламируемая элитарность; 6. Неофициальный эгалитаризм;
7. Преобладание идеального над материальным; 7. Коммерческий успех;
8. Вера в высокое искусство; 8. Антиутопичность;
9. Фактическая культурная преемственность; 9. Отказ от прошлой парадигмы;
10. Отчётливость границы «искусство/не искусство»; 10. Назвать искусством можно всё;
Иными словами, если брать определение Льва Рубинштейна, модернизм экспериментирует с поиском новых средств выразительности в форме, в то время как тематика и проблематика у него остаётся достаточно традиционной. В этом смысле модернизм можно назвать классическим искусством, в отличие от постмодернизма, ориентированного на эксперименты не только в области формы, но прежде всего в содержании и тематике.
Говоря ещё проще, модернизм является авангардным искусством, оригинальным, новаторским и недоступным на момент своего появления пониманию широких масс, в то время как постмодернизм — явление изначально вторичное (или даже третичное) в творческом отношении: там, где у модернизма всё ново и серьёзно, постмодернизм занимается цитированием, пародированием и игрой, будучи более доступным для масс по причине своей изначальной вторичности.
«ПОСТМОДЕРНИЗМ, ИРОНИЯ, ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ», УМБЕРТО ЭКО
С 1965 года по сей день окончательно прояснились две идеи: во-первых, что сюжет может возродиться под видом цитирования других сюжетов и, во-вторых, что в этом цитировании будет меньше конформизма, чем в цитируемых сюжетах. Один «Ежегодник Бомпьяни» (по-моему, от 1972 года) был озаглавлен «Реванш сюжета», хотя означенный реванш по большей части знаменовался ироническим (и в то же время восторженным) переосмыслением Понсон дю Террайля и Эжена Сю, а также восторгами (почти без иронии) по поводу лучших страниц Дюма. И все-таки — можно ли было представить себе роман и нонконформистский, и достаточно проблемный, и, несмотря ни на что, занимательный?
Создать этот сложный сплав и заново открыть не только сюжет, но и занимательность предстояло американским теоретикам постмодернизма.
К сожалению, «постмодернизм» — термин годный а tout faire. У меня такое чувство, что в наше время все употребляющие его прибегают к нему всякий раз, когда хотят что-то похвалить. К тому же его настойчиво продвигают в глубь веков. Сперва он применялся только к писателям и художникам последнего двадцатилетия; потом мало-помалу распространился и на начало века; затем еще дальше; остановок не предвидится, и скоро категория постмодернизма захватит Гомера.
Должен сказать, что я сам убежден, что постмодернизм — не фиксированное хронологически явление, а некое духовное состояние, если угодно, Kunstwollen — подход к работе. В этом смысле правомерна фраза, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм, так же как у любой эпохи есть собственный маньеризм (хоть я и не решил еще, не является ли постмодернизм всего лишь переименованием маньеризма как метаисторической категории). По-видимому, каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса, подобного описанному у Ницше в «Несвоевременных размышлениях», там, где говорится о вреде историзма. Прошлое давит, тяготит, шантажирует. Исторический авангард (однако в данном случае я беру и авангард как метаисторическую категорию) хочет откреститься от прошлого.
«Долой лунный свет!» — футуристский лозунг — типичная программа любого авангарда; надо только заменять «лунный свет» любыми другими подходящими словесными блоками. Авангард разрушает, деформирует прошлое. «Авиньонские барышни» — очень типичный для авангарда поступок.
Авангард не останавливается: разрушает образ, отменяет образ, доходит до абстракции, до безобразности, до чистого холста, до дырки в холсте, до сожженного холста; в архитектуре требования минимализма приводят к садовому забору, к дому-коробке, к параллелепипеду; в литературе — к разрушению дискурса до крайней степени — до коллажей Бэрроуза, и ведут еще дальше — к немоте, к белой странице. В музыке эти же требования ведут от атональности к шуму, а затем к абсолютной тишине (в этом смысле ранний период Кейджа — модернистский).
Но наступает предел, когда авангарду (модернизму) дальше идти некуда, поскольку он пришел к созданию метаязыка, описывающего невозможные тексты (что есть концептуальное искусство).
Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности.
Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы — прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен сказать: «По выражению Лиала — люблю тебя безумно». При этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, — то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознательно и охотно вступают в игру иронии… И все-таки им удалось еще раз поговорить о любви.
Ирония, метаязыковая игра, высказывание в квадрате. Поэтому если в системе авангардизма для того, кто не понимает игру, единственный выход — отказаться от игры, здесь, в системе постмодернизма, можно участвовать в игре, даже не понимая ее, воспринимая ее совершенно серьезно. В этом отличительное свойство (но и коварство) иронического творчества. Кто-нибудь всегда воспримет иронический дискурс как серьезный. Вероятно, коллажи Пикассо, Хуана Гриса и Брака — это модернизм, так как нормальные люди их не воспринимали. А вот коллажи Макса Эрнста, в которых смонтированы куски гравюр XIX в., — это уже постмодернизм; их можно читать, кроме всего прочего, и просто как волшебную сказку, как пересказ сна, не подозревая, что это рассказ о гравюрах, о гравировании и даже, по-видимому, об этом самом коллаже.
Если «постмодернизм» означает именно это, ясно, почему постмодернистами можно называть Стерна, и Рабле, и, безусловно, — Борхеса; и как в одном и том же художнике могут уживаться, или чередоваться, или сменяться модернизм и постмодернизм. Скажем, у Джойса. «Портрет…» — рассказ о движении к модернизму. «Дублинцы», хоть и написаны раньше, — более модернистская вещь, чем «Портрет». «Улисс» — пограничное произведение. И, наконец, «Поминки по Финнегану» — уже постмодернизм. В нем открыто постмодернистское рассказывание: здесь для понимания текста требуется не отрицание уже-сказанного, а его ироническое переосмысление.
О постмодернизме уже с самого начала было сказано почти все. Я имею в виду такие работы, как «Литература истощения» Джона Барта — это статья 1967 года, ныне снова опубликованная в седьмом выпуске «Калибано», посвященном американскому постмодернизму. Я не совсем согласен с той «табелью о рангах», которую теоретики постмодернизма (включая Барта) ввели для писателей и художников, определяя, кто из них постмодернист, а кто не вполне. Но мне кажется любопытной та теорема, которую теоретики этого направления доказывают, исходя из своих предпосылок.
«По моим понятиям, идеальный писатель постмодернизма не копирует, но и не отвергает своих отцов из двадцатого века и своих дедов из девятнадцатого. Первую половину века он таскает не на горбу, а в желудке: он успел ее переварить. (…) Он, может быть, и не надеется растрясти поклонников Джеймса Миченера и Ирвинга Уоллеса, не говоря о лоботомированных маскультурой неучах. Но он обязан надеяться, что сумеет пронять и увлечь (хотя бы когда-нибудь) определенный слой публики — более широкий, чем круг тех, кого Манн звал первохристианами, то есть чем круг профессиональных служителей высокого искусства. (…) Идеальный роман постмодернизма должен каким-то образом оказаться над схваткой реализма с ирреализмом, формализма с „содержанизмом“, чистого искусства с ангажированным, прозы элитарной — с массовой. (…) По моим понятиям, здесь уместно сравнение с хорошим джазом или классической музыкой. Слушая повторно, следя по партитуре, замечаешь то, что в первый раз проскочило мимо. Но этот первый раз должен быть таким потрясающим — и не только на взгляд специалистов, — чтобы захотелось повторить».
В 1980 году Барт продолжает тему, на этот раз под заглавием «Литература восполнения». Разумеется, те же мысли можно сформулировать и более парадоксально, как это делает Лесли Фидлер. В том же выпуске «Калибано» публикуется его статья 1981 года, а в 1980 году в «Салмагунди» вышла его дискуссия с несколькими американскими писателями. Фидлер их явно дразнит. Он расхваливает «Последнего из могикан», приключенческую романистику, готические романы, всякое чтиво, презираемое критиками, но способное порождать мифы и занимать воображение не одного читательского поколения. Фидлер гадает — не появится ли в литературе что-либо сравнимое с «Хижиной дяди Тома», которую с одинаковым упоением читают на кухне, в гостиной и в детской.
Шекспира он причисляет к «тем, кто умел развлекать», и ставит рядом с «Унесенными ветром». Фидлер всем известен как критик слишком тонкий, чтоб во все это верить. Он просто хочет снести стену, отделяющую искусство от развлечения. Он интуитивно чувствует, что добраться до широкой публики и заполонить ее сны — в этом и состоит авангардизм по-сегодняшнему; а нам он предоставляет полную возможность самим дойти до мысли, что владеть снами вовсе не значит убаюкивать людей. Может быть, наоборот: насылать наваждение.